Писатель Равиль Сабыр: «Автора лучше убить?»
О том, как драматург оказался самым бесправным существом в театре
Почему все в театре занимаются своей работой на профессиональном уровне и только тот, кто пишет пьесы, вынужден делать это на любительском? Должен ли драматург добывать свои гонорары через суд? Какая пьеса может считаться современной? Своими мыслями на эти и другие темы с «Татар-информом» поделился писатель и драматург Равиль Сабыр.

Снова «пинок» в адрес драматургов
Не первый раз это происходит, но все равно задевает. Хотя, наверное, пора бы и привыкнуть, не придавать значения, ведь ничего нового в этом нет. Но сердцу все же больно…
В одной из статей о новом здании Камаловского театра, коих в последнее время вышло множество, в очередной раз досталось драматургам. Дескать, нету их, а те, кто есть, не умеют писать по-современному. Даже Ильгизу Зайниеву досталось – якобы его пьесы по форме напоминают сценические произведения Хая Вахита, а содержания нет – пустота.
Как известно, еще во времена, когда писали Пушкин и Гоголь, Белинский тоже заявлял: «У нас нет литературы!» А у режиссеров это вообще самое любимое занятие – жаловаться на дефицит пьес. Всегда так было. К примеру, в 1910 году Константин Станиславский, говоря о ближайших перспективах МХТ, сказал: «Театр зашел в тупик, нечего ставить, нет пьес».
Справедливости ради отметим, что некоторые коллеги, написавшие пару пьес, но не увидевшие их на сцене, обычно винят театр. Мол, еще не родился режиссер такого уровня, чтобы понять их гениальные творения. На это можно было бы посмотреть с улыбкой, но… К этой теме мы еще вернемся, а сейчас я хотел бы привести слова Марселя Салимжанова, который в одном из телеинтервью сказал: «Мы в театре каждый день живем с надеждой, что какой-нибудь драматург принесет гениальную пьесу». Думаю, и сейчас так же. Хорошо. Но откуда должен появиться (вырасти) этот драматург? Возможно ли это, когда драматургия пребывает в роли никому не нужного сироты?

«Даже Ильгизу Зайниеву досталось – якобы его пьесы по форме напоминают сценические произведения Хая Вахита, а содержания нет
Фото: © «Татар-информ»
«А ты что делаешь в театре?»
Давайте возьмем, к примеру, фильмы и спектакли. Если там есть персонаж драматурга, обычно это карикатурный образ. Почему? Да потому что автор о себе или своей профессии пишет с юмором, не будет же он сам себя восхвалять. А режиссеру только это и надо – он указывает артисту еще сильнее раздуть этот образ, я бы даже сказал, велит играть максимально выпукло. Конечно, зритель с удовольствием хохочет.
Не знаю, откуда пошло такое убеждение, или же правило, что у нас принято считать: драматург – это не человек театра. Туфан абый мне как-то рассказывал:
– Захожу в Камаловский театр, навстречу мне Шамиль (Закиров – директор театра Камала в 1985-2012 гг.). «А что ты здесь делаешь?» – говорит мне. «А ты что здесь делаешь?» – сказал я. Стыдно стало Шамилю за свой вопрос, понял, что неправ…
Позже Туфан абый в одном из своих материалов в СМИ с горечью был вынужден напомнить: «День театра – это и наш праздник, и драматургов».
Вернемся к словам Марселя Салимжанова, когда он говорит: «Надеемся, что принесут пьесу». То есть откуда-то со стороны должен появиться драматург и принести хорошую пьесу. Тем временем смотрите: какую бы мы ни взяли профессию в театре: режиссер, актер, художник и т.д. – они все обучены своему делу, получают профессиональное образование. У каждого есть соответствующее штатному расписанию место работы, должность, зарплата и т.д. А у драматурга – нет. То есть все занимаются своей работой на профессиональном уровне, и только тот, кто пишет пьесу, делает это на любительском. Кто из нынешних драматургов может сказать, что он только драматург и это его основная работа? Может, Ильгиз Зайниев? Нет, он сам в своем интервью сказал: «Я драматург, который работает режиссером». Давно уже, в 2019 году. А сейчас и вовсе стал руководителем сразу двух театров, и как он найдет время еще и пьесы писать – большой вопрос.
Если для драматургов создание пьес не их основная работа, а только что-то типа хобби, отражение энтузиазма, правильно ли предъявлять им слишком высокие требования? Почему, когда Евстигнеев, играющий режиссера народного театра в известном фильме, говорит: «Кроме того, актер должен где-то работать! Неправильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка», – мы смеемся, а когда в таком же положении драматург, то есть днем он отдает все силы на основной работе, а ночью еще и пишет пьесы, нам не смешно? (Об этом я уже писал несколько лет назад, повторяюсь, извините!)
Теперь взглянем на то, как относятся к драматургам в писательской среде, среди коллег по цеху. Принято, хотя и полушутя, говорить: мол, какое отношение имеет драматургия к литературе? Считается, что если писатель не осилил другие жанры, он начинает писать пьесы. А в моем представлении это самый сложный жанр. Чтобы создать драматургическое произведение, ты должен иметь больше навыков и знаний. В то же время не будем забывать, что драматург написать прозу может, но не все прозаики могут написать пьесу. А потом еще обращаются к драматургам с просьбой перенести их роман в сценический формат.

«24 мая 2024 года в Мензелинском театре состоялась премьера комедии «Син генә җитмәгән идең!» по моей пьесе. Интересно, когда настанет моя очередь получить гонорар?»
Фото: rus.minzalateatr.ru
Автору – 3 миллиона
Недавно узнал новость, которая, признаюсь, меня крайне поразила. Министерство культуры Татарстана начинает выплачивать гонорары драматургам за их спектакли, выпущенные в 2020 году (пять лет прошло!). Говорят, что, закрыв эти долги, Минкульт больше не будет выделять денег на эти цели и театры будут обязаны платить авторам из своих бюджетов. Получается, что драматург должен откуда-то чудесным образом появиться, просиживать ночами, создавая ту самую «гениальную пьесу», принести в ее театр, но за его труд можно и не платить?
Вот, например, 24 мая 2024 года в Мензелинском татарском государственном драматическом театре состоялась премьера комедии «Син генә җитмәгән идең!» (в русском варианте – «Залетные гости») по моей пьесе (режиссер – Булат Бадриев). Интересно, когда настанет моя очередь получить гонорар? Кто мне его выплатит? Сегодня у меня ответа на эти вопросы нет, хотя я несколько раз пробовал обратиться и в Мензелинский театр, и в Минкульт. «Син генә җитмәгән идең!» (прямой перевод названия пьесы – «Тебя только не хватало!») – вот их ответ.
Тем временем, как пояснили мне юристы, по закону еще за два месяца до премьеры, то есть до 24 марта прошлого года, необходимо было составить договор со мной. Более того, к этому времени мне должны были выплатить указанную в договоре сумму гонорара. Юристам что? Говорят, судись. Но как я, парень, выросший в Мензелинске, буду судиться с почти родным для меня театром? С каким лицом? Хотя прецеденты есть. Один из театров Татарстана за нарушение авторских прав был вынужден выплатить автору более 3 миллионов рублей.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к министру культуры РТ Ираде Аюповой. Вот, к примеру, сотрудники прокуратуры или Следственного комитета материалы в СМИ приравнивают к поступившим к ним заявлениям и открывают дело. Уважаемая Ирада ханум! Прошу принять эту мою статью как заявление на ваше имя. Посодействуйте, пожалуйста, в решении вопроса оплаты не только за мою пьесу, но и за труды других драматургов. Что-то мне подсказывает, что все, кроме автора, – режиссеры, художники, одним словом, те, кто участвовал в создании спектаклей, – наверняка уже давным-давно получили причитающиеся им деньги.

«Юристам что? Говорят, судись. Но как я, парень, выросший в Мензелинске, буду судиться с почти родным для меня театром? С каким лицом?»
Фото: rus.minzalateatr.ru
«Я люблю только умерших драматургов!»
К вопросу денег еще вернемся, а сейчас хочется остановиться на самом сложном вопросе – отношениях режиссера и драматурга. Сейчас вот посчитал: во время постановок моих пьес мне, оказывается, пришлось поработать с семью режиссерами. Со всеми работали дружно, находили общий язык. Спорили тоже часто, конечно, не без этого, но в целом общим трудом обе стороны, кажется, оставались довольными. С Фаридом Бикчантаевым, хотя вместе спектаклей не выпускали, несколько раз тоже встречались, говорили о разных проектах, о многих вещах были единого мнения, однако, как ни жаль, по каким-то причинам до спектакля у нас дело не дошло. Будем надеяться, что в будущем дойдет.
Поскольку я в какой-то степени знаком с режиссерами, то, с одной стороны, могу понять их, когда они говорят, что им нечего ставить. Иногда бывает, что хочется посмотреть какой-нибудь хороший фильм. В интернете фильмов миллионы, можешь выбрать все что пожелаешь. Но даже при таком выборе порой не можешь найти что-то подходящее. А режиссер имеет под рукой намного меньшее количество пьес. Получается, выбор у него не такой большой. Режиссера волнуют одни темы и проблемы, драматурга – другие, свои. И это естественно, ведь они разные люди и не могут мыслить одинаково. Пьеса есть, но не о тех проблемах, которые беспокоят режиссера. Иногда тема, возможно, и подходит, но, по его мнению, написано не так.
Режиссеры же, обучаясь в Москве, привыкли иметь дело с прошедшими через сито времени лучшими, сильнейшими произведениями мировой драматургии. И узость выбора или широта – это ведь с какой стороны посмотреть. С одной – ограниченная, с другой – очень широкая. Как шутит один критик, современные режиссеры признают достойными себя лишь одного драматурга – Шекспира! Когда режиссер может взяться за любое, самое лучшее произведение, созданное в истории человечества, что для него какой-то Равиль Сабыр из Альметьевска? Или Артур Ибрагимов? Что они могут написать? Ну точно не на уровне Шекспира!
Еще одно неудобство: если Шекспира изменить под себя, он с того света не вернется и претензий не предъявит, а современный автор может это сделать. Увидит на сцене не то, что он написал, скандал может устроить, по меньшей мере потребовать убрать свое имя с афиш. Один режиссер мне прямо так и сказал: «Я люблю только умерших драматургов!»
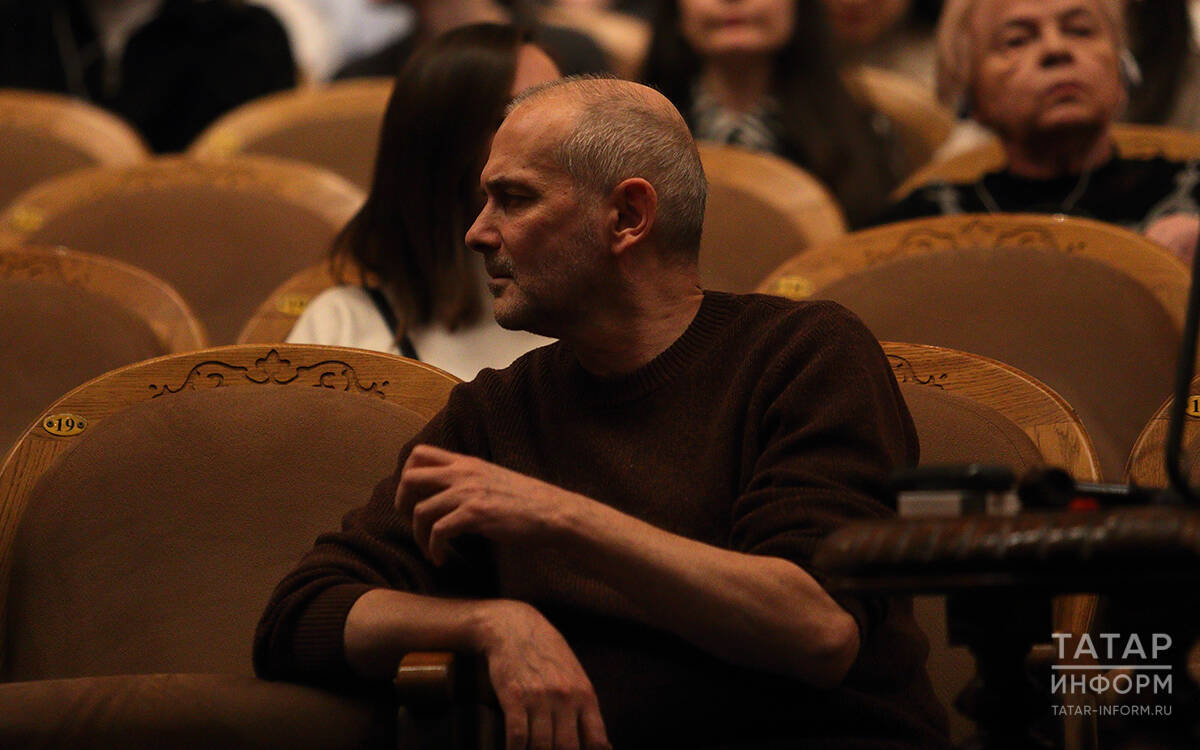
«С Фаридом Бикчантаевым, хотя вместе спектаклей не выпускали, несколько раз тоже встречались. По каким-то причинам до спектакля у нас дело не дошло. Будем надеяться, что в будущем дойдет»
Фото: © «Татар-информ»
Пьеса о хане – современная?
Такое чаще встречается у молодых режиссеров. Если режиссер прошел школу советского театра, то он намного внимательнее относится к мнению автора, идее, заложенной им в произведении. Вот что о молодых режиссерах говорил знаменитый российский режиссер Римас Туминас (1952-2024):
«Во все времена молодежи хотелось все перевернуть, разрушить, поменять. Прямо навязчивые мысли – как бы что переставить с ног на голову, образно говоря – «поджечь». Но все это от нетерпения сердца. Заметил опасную тенденцию – чрезмерную воинственность без особых на это причин. Мало кто хочет дружить, узнавать друг друга, приближаться – это же долгая и трудная дорога к человеку. Поэтому молодежь считает: лучше убить, чем так долго идти к пониманию и сближению. Все происходит с отрицательной частицей. Не доходят до автора, не доходят до эпохи, не доходят до музыки, не доходят до сути. Возникает единственное решение – взять топор и выйти на улицу в поиске себя. Хочу попросить: не надо брать топоры и ножи, а надо идти навстречу человеку (как я понимаю, в том числе и автору, – прим. авт.)».
Еще одна короткая цитата: «Молодые режиссеры хотят выразить себя, а ты попробуй понять и выразить автора, его философию, тогда в соединении с твоим видением может получиться что-то очень интересное».
На сто процентов согласен! Но время таких режиссеров, как Туминас, проходит, приходит другое…
Есть и такой момент: что бы кто ни говорил, спектакль ставит режиссер, в этой команде он – номер один, сила у него. А кто сильный, тот и прав. И отсюда начинается – «ставить не-е-ечего, нынешние драматурги не умеют писать по-современному»…
А как это – по-современному? Какие критерии? Кто их придумал? Вообще есть они? Кто-нибудь может сказать – чтобы пьеса считалась современной, каким требованиям она должна отвечать? Если выпускать спектакль по пьесе Ркаила Зайдуллы «Хан һәм шагыйрь» («Хан и поэт»), берутся сразу два театра (еще у одного театра было в планах, они отказались, третьим не стали сообщать об этом), значит ли это, что эта пьеса современная? Получается, да, хотя и была написана четверть века назад! Драма Ильдара Юзеева «Мой белый калфак» («Ак калфагым төшердем кулдан») тоже была поставлена через четверть века после ее создания.
Почему же она не была поставлена раньше? Отчего на протяжении 25 лет эти произведения не были признаны достойными постановки и только спустя много лет вдруг оказались достойными? У того же Туфана Миннуллина пьесу «Мулла», победившую в «Новой татарской пьесе» в 2006 году, приняли прохладно, даже говорили, что она конъюнктурная. Но в 2012 году случилось нападение на муфтия Татарстана, его заместитель был убит – и тут пьеса «Мулла» сразу стала актуальной и современной и была поставлена на сцене театра Камала. Значит, сначала автора до конца не поняли и в театре не уловили того, что он предчувствовал.

«Если выпускать спектакль по пьесе Зайдуллы «Хан һәм шагыйрь» берутся сразу два театра, значит ли это, что эта пьеса современная?»
Фото: kamalteatr.ru
Черные дни классиков
Кстати, вспомнился один интересный факт. В мае 2023 года в Альметьевске при финансовой поддержке «Татнефти» прошел спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к брату». Оркестр Юрия Башмета играл классическую музыку, народный артист России Евгений Миронов читал письма Ван Гога к брату Тео. Эти письма — не просто диалог с родным человеком, в них он разговаривает с самим собой, вступает в спор с Богом и миром. При жизни Ван Гога считали полоумным, он смог продать лишь одну свою картину. То есть его тоже ругали: «Не умеешь писать картины по-современному». А сегодня его работы стоят 70-80 миллионов долларов, и даже за эти деньги вряд ли найдешь.
Еще несколько примеров. Премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя в Александринском театре Санкт-Петербурга в 1842 году с треском провалилась. Какие только обвинения не бросали автору! Такая же участь постигла спектакль «Чайка» по пьесе Чехова, поставленный в 1896 году в том же театре. Антон Павлович тогда в сердцах даже заявил, что никогда больше пьес писать не будет. Получается, классикам в свое время тоже говорили, что они не умеют писать современные пьесы.
Тот же Туфан Миннуллин, думаете, избежал этой участи? Как бы не так! Еще на заре своего творчества его пьесу «Безнең авыл кешеләре» («Люди нашего села») берется ставить Мензелинский театр. Артисты ворчали, что пьеса никакая, играть нечего, а режиссер Сабир Амутбаев сказал: «Он молодой драматург, всех тонкостей еще не познал, ему только предстоит учиться. Мы должны поставить эту пьесу, чтобы показать ему, почему так писать нельзя, чтобы он мог расти как драматург». И кто знает, если бы тогда не поставили «Людей нашего села», то, может, так и не появились бы на свет и «Четыре жениха для Диляфруз», и «Моңлы бер җыр» («У совести вариантов нет»), и «Әниләр һәм бәбиләр» («Колыбельная»), и «Старик из деревни Альдермыш», и многие другие прекрасные пьесы…

«Если драматург не станет «своим» в театре, если не помогать ему, указывая на недостатки в его пьесе, заставляя раз за разом переписывать, не учить его, то никто не вырастет до уровня Туфана Миннуллина»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
То ремень порванный, то гармонист пьяный
Я не первый раз высказываю эту мысль. Приходилось это говорить и во время выступления на одном из форумов. Если не ошибаюсь, кажется, в 2008 году Альметьевский театр и Союз писателей РТ провели при поддержке «Татнефти» семинар для драматургов на базе отдыха «Юность». Помню, он шел три дня. На одном из заседаний без предупреждения слово дали мне. Я вышел и сказал первое, что пришло мне в голову, то, что меня тогда больше волновало: «Если драматург не станет «своим» в театре, если не помогать ему, указывая на недостатки в его пьесе, заставляя раз за разом переписывать, не учить его, то никто не вырастет до уровня Туфана Миннуллина».
Я также привел слова самого Туфана абый, который сказал мне как-то: «Старайся больше бывать в театре, погружайся в эту среду, общайся с артистами, режиссерами, присутствуй на репетициях. Иначе как драматург вырасти не сможешь».
Мои слова в конце семинара напомнил в своем выступлении Фарид Бикчантаев. А мне сказал: «Будешь в Казани – к нам тоже заходи, смотри репетиции, наши двери всегда открыты». После этого мы с Фаридом эфенде стали общаться довольно часто, обсуждали также и общие проекты, но, как говорится, то ремень у баяна порванный, то гармонист пьяный – одним словом, песня не прозвучала.
Но с тех пор я влюбился в репетиции. Могу точно сказать – смотреть репетиции в сто раз интереснее, приятнее и полезнее, чем спектакль. В этом плане мы с Булатом Бадриевым единомышленники. Если Булат ставит мою пьесу, всегда зовет, во время репетиций советуется со мной, и он глубоко убежден, что автор непременно должен активно участвовать в процессе выпуска спектакля. Но, как я уже говорил, время таких режиссеров уже уходит.

«В «Лютом» спектакль вроде бы и есть, но литературы нет»
Фото: almetteatr.ru
Спектакль есть, литературы — нет
Какое же время приходит? Время тех самых режиссеров, которые считают: «Я – номер один, сила у меня, значит, я прав!» Я их тоже по-своему стараюсь понять. Действительно, творчество – это ведь очень интимный процесс. Поставь за моей спиной человека, который будет подглядывать, как я пишу свою пьесу, я бы и пяти минут не выдержал, прогнал бы. Поэтому, наверное, это и правильно, когда режиссеры в самом начале работы с актерами на репетициях не позволяют на них присутствовать. Но ведь некоторые не допускают на репетиции вплоть до премьеры. Им вообще автор не нужен, как говорит Туминас, автора лучше убить – так они считают.
И что тогда остается, если автора убить? Фарид Бикчантаев в одном из своих интервью сказал: «Я даже не представляю, как можно написать пьесу». А вот казахский режиссер Алибек Омирбекулы нашел способ. В конце прошлого года в Альметьевском татарском драмтеатре он выпустил спектакль «Явыз» («Лютый») по уже упомянутой пьесе Ркаила Зайдуллы «Хан һәм шагыйрь». Авторский текст там в конце первого акта звучит, наверное, от силы минут пять. Вместо него режиссер дал написать реплики… актерам.
И как получилось, спросите вы. Многие после премьеры спрашивали меня об этом. Не сразу сообразил, как ответить, но потом, кажется, нашел точное определение. «В «Лютом» спектакль вроде бы и есть, но литературы нет». Могу снова привести слова Марселя Салимжанова. После прочтения пьесы он довольно часто говорил: «Пьеса есть, литературы нет». Или же: «Литература есть, пьесы нет». И в том и в другом случае спектакля из такого текста не получится.
Язык в «Лютом» такой… не знаю, как и объяснить, чтобы не обидеть актеров (хотя драматургу, когда актеры со сцены несут отсебятину, делать замечания не положено, – ишь ты, кем себя возомнил!). Все же попробую. Язык в этом спектакле знаете какой? Будто молодому жеребцу завязали ноги и он пытается побежать – не получается. Он идет, спотыкается, и вприпрыжку пробует – нет. Но вот наступает конец первого акта, актеры начинают играть по тексту автора – и тут будто ноги скакуну развязали, и он понесся! И потекли со сцены, как журчание родника, самые настоящие татарские, наши, складные и понятные слова, наслаждение для слуха. Но в начале второго акта Омирбекулы снова «завязывает ноги скакуну».
А на самом деле способов вытеснить драматургов из театра довольно много! Подскажу только один из них. Например, можно привлечь к этому искусственный интеллект. Уверен, скоро мы и до этого дойдем.
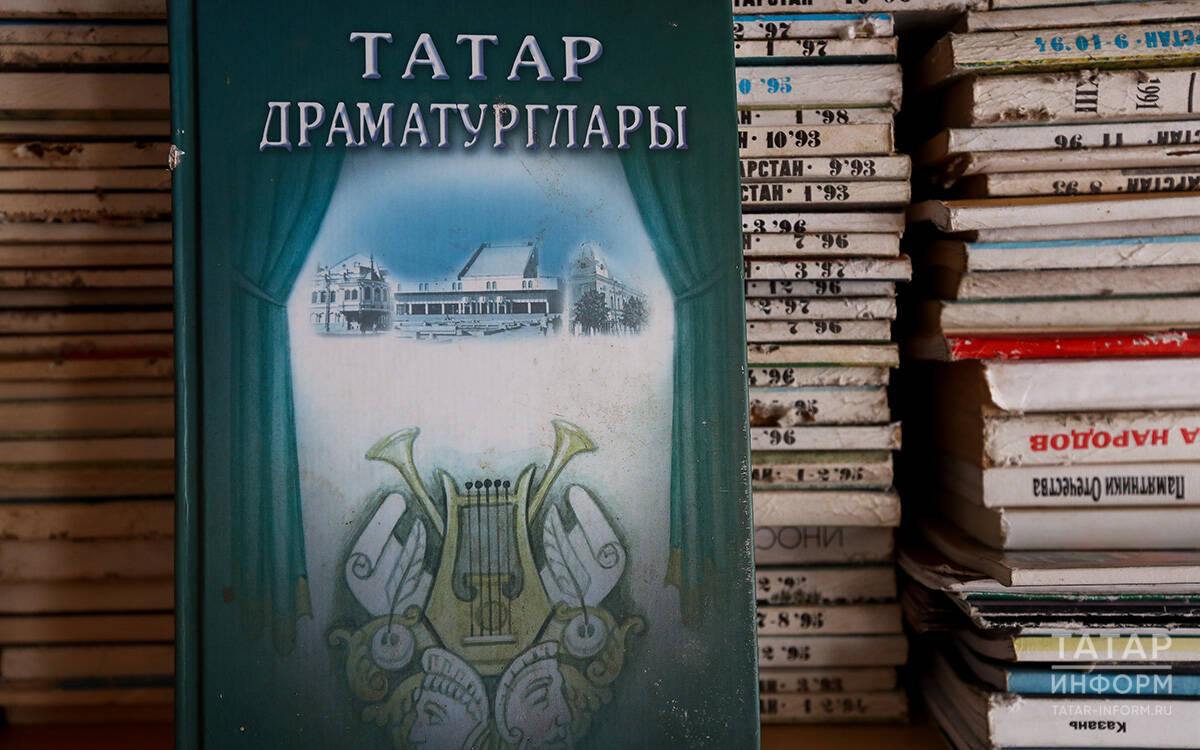
О проблемах и больных местах говорили много, теперь хотелось бы подумать, как же их решить, как излечить
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
30 драматургов+
О проблемах и больных местах говорили много, теперь хотелось бы подумать, как же их решить, как излечить. Один руководитель, с которым мне пришлось работать, частенько говорил: «Чтобы решить любую проблему, в первую очередь нужны две вещи: кадры и финансы».
Хорошо. Есть ли у нас кадры? «Интертат» в своем материале 2019 года насчитал в татарской литературе 30 драматургов. Мы нашли еще 14.
С 31 января по 2 февраля этого года в Альметьевске провели трехдневный семинар-интенсив современной драматургии. В нем приняли участие 14 человек от 19 до 57 лет. Среди них наряду со мной, Лилией Гибадуллиной, чья инсценировка «Куркак батыр» вышла в Кариевском театре, Артуром Ибрагимовым – победителем конкурса «Новая татарская пьеса» этого года (пока без поставленных спектаклей, правда, Мензелинский театр собирается), участвовала и молодежь, только мечтающая написать пьесу.
Художественный руководитель Центра современной драматургии и режиссуры Башкортостана Зиннур Сулейманов на основе своей авторской методики учил участников семинара создавать каркас будущей пьесы. Пошагово все очень просто и доступно объяснял. По его словам, в первом семинаре в Стерлитамаке участвовали шесть человек, четверо из них написали пьесу, три из которых уже поставлены в театрах. В семинаре в Салавате участвовали восемь человек. Хотя завершена только одна часть программы, состоящей из трех частей, одна пьеса уже взята на постановку.
Если пусть даже только половина участников семинара в Альметьевске напишут достойные внимания пьесы, значит, к Артуру Шайдуллину, Лилии Гибадуллиной, Артуру Ибрагимову присоединятся еще шесть-семь молодых драматургов. Кадры есть, одним словом! Надо только уметь их взрастить. Но вот это без финансов, к сожалению, не получится.

Мансур Гилязов считает, что первоклассные пьесы начнут появляться только тогда, когда профессия драматурга станет престижной
Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»
С конца начинать или с начала?
Как же обстоят дела с финансами? О том, что Министерство культуры только сейчас начинает закрывать драматургам свои долги 2020 года, я уже упоминал. Почему гонорары авторам не выплачиваются годами? Из недавнего выступления Ирады Аюповой причина более-менее проясняется. Правда, она говорит о кино, но принцип тот же.
Стоимость фильма состоит из трех частей, говорит она: заработная плата автору сценария и режиссеру, зарплата актерам и техническое обеспечение. Может быть, нам надо начать с конца, считает министр, потому что, по ее мнению, развитие кинематографии в том числе связано и с развитием инфраструктуры. А нельзя ли начать не с конца, а с начала? По-человечески.
Вот, например, Мансур Гилязов считает, что первоклассные пьесы начнут появляться только тогда, когда профессия драматурга станет престижной. Если автор спектакля подъедет к театру на Rolls-Royce, то молодые позавидуют ему, у них появится желание стать такими же, говорит коллега. Конечно, он немного преувеличивает, но почему же драматурги теперь совсем не получают за свои пьесы гонораров от министерства? Куда делся налаженный и неплохо работавший ранее механизм?
Помню, в 2007 году за спектакль «Хаят» я, как автор пьесы, получил 112 тысяч рублей гонорара. Тогда официальная средняя зарплата по России была 13 500 рублей, получается, мне выплатили 8,3 средней зарплаты. Сегодня, как пишется в открытых источниках, средняя зарплата в Татарстане составляет 72 тысячи рублей. Следовательно, за свою пьесу автор должен получить 597 600 рублей гонорара. Зря удивляетесь. Сегодня режиссеры (не все, конечно) соглашаются только на такую сумму. Почему драматургам не платят столько же? Чем они хуже?
Что происходит, когда на рынке начинает ощущаться дефицит каких-то специалистов? Правильно, у них растет зарплата. И хотя сегодня целыми днями из каждого утюга твердят, что доставщик пиццы не должен зарабатывать больше инженера на автозаводе, но зарплата курьеров от этого меньше не стала, как и у инженеров особо не выросла. Давайте вернем драматургам гонорары на уровне 2007 года. И больше будет тех, кто захочет писать пьесы, а количество, как известно, в конечном счете все равно переходит в качество.
Мы привыкли говорить, что драматургия – это источник, начало начал для театра. Представим, что этот родник (пьеса), попав в руки режиссера, становится рекой, а после премьеры, когда в спектакль вложены силы актеров, художника, композитора и всего коллектива театра, когда спектакль представлен на суд зрителя, то он становится как море. В этой системе образов новое здание театра Камала – океан. Безусловно, это потребовало огромных вложений, однако 30 миллиардов ведь нашлись. Перестанут бить родники – реки высохнут, без них высохнут моря (вспомните Аральское море), а потом и океаны.
Почему же для нас становится привычным действовать по принципу «начинать с конца»? Если бы лишь 1 процент из 30 миллиардов направить на развитие драматургии, то при тех ценах, которые я назвал, можно было бы заплатить за 502 пьесы…

«В 2007 году за спектакль «Хаят» я, как автор пьесы, получил 112 тысяч рублей гонорара»
Фото: стоп-кадр видео
Чтобы не «на деревню дедушке»
Кроме кадров и финансов есть еще один важный аспект: называется административный ресурс. Однажды в Челнах перед выборами президента России (2000 год) выступал Станислав Говорухин. Как известно, он учился на геофаке Казанского университета, в свое время работал на Казанской студии телевидения. Как кандидат в президенты, он встретился с избирателями. Говорил больше о культуре. Мне ярче всего запомнились его слова о том, как они добились вытеснения бразильских-мексиканских сериалов с российского телевидения.
«Телеканалы в последнее время обнаглели, – с горечью рассказывал Говорухин. – На бюджетные деньги покупают иностранные фильмы, пичкают их рекламой и делают на этом деньги, а наши режиссеры, актеры сидят без работы. Поэтому мы в Госдуме приняли закон, по которому обязали ТВ-каналы минимум энное количество часов в день показывать наши фильмы. С каждым годом объем этого минимального времени будет расти. В итоге они были вынуждены снимать сериалы на русском, и наши сценаристы, режиссеры, актеры были обеспечены работой», — сказал политик.
Может быть, и нам в Татарстане принять подобный закон? Например, обязующий театры, ТВ и радио какую-то часть репертуара, эфира отдавать спектаклям и произведениям ныне живущих и работающих драматургов. Хотят они, не хотят, у них появится интерес сотрудничать с драматургами, давать заказы на создание пьес, обучать молодых талантов. Как уже говорил ранее, количество все равно в конечном итоге перейдет в качество. По причине востребованности большого количества пьес меньше было бы таких, которые по случайности остаются незамеченными. А то, как написал «Интертат», в 2024 году в Альметьевске поставили комедию «Нечкәбил» («Красотка») по пьесе Мансура Гилязова «Мисс Гүзәллек», и на этот спектакль билеты сегодня распродаются за два месяца вперед. А ведь это произведение на конкурсе «Новая татарская пьеса – 2022» не попало даже в шорт-лист. Получается, то, что не заметили эксперты, директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова все-таки уловила.
Но я не сторонник каких-то ограничений или принуждений в творчестве. Мы ведь люди разумные, нам язык дан. Давайте соберемся, посоветуемся, поговорим, решим. Надо что-то решать. Если режиссеры постоянно будут ущемлять драматургов, а писатели – ругать театр, далеко ли мы пойдем? Надо работать вместе. Фарид Бикчантаев в 2008 году на семинаре в Альметьевске так и сказал. Семнадцать лет прошло. Если скажу, что ничего не изменилось, наверное, будет неверно, но много чего еще надо улучшать.
И в завершение одна небольшая просьба. Статьи-интервью выходят, проблемы тоже поднимаются, проводятся и встречи, совещания, круглые столы. Только зачастую написанное или сказанное остается всего лишь на словах, до каких-то конкретных дел дойти мы не можем. Не хотелось бы, чтобы эта моя статья, как письмо мальчика Ваньки из рассказа Чехова, ушла «на деревню дедушке».





